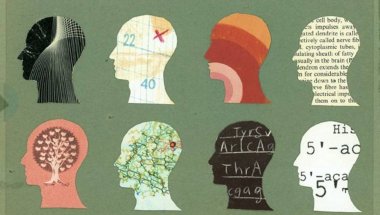В очередной незнакомый полутемный кабинет я почему-то захожу уже одна. Там меня встречают три женщины с заготовленными бордово-коричневыми улыбками. Они велят мне раздеться до трусов и сесть на кушетку. Я стараюсь улыбаться в ответ.
Одна из женщин возится в углу, совсем темном, не вижу, что там. Другие две подходят ко мне с разных сторон. Улыбки растягиваются еще шире: "Ты такая красивая, просто куколка" — я в ответ улыбаюсь еще старательнее, почти искренне — как будто их можно задобрить и тогда со мной не станут ничего делать. "Вот и мы тебя сейчас, как куколку… Запеленаем! Давай!" — это уже не мне, а той, второй, у меня за спиной вдруг появляется толстая простыня и за секунду меня заворачивают в плотный кокон, оставив снаружи только голову, одновременно с силой распластав по кушетке.
Не успеваю издать ни звука, третья уже здесь, затыкает мне глотку какой-то огромной штуковиной. Она давит пальцами мне на челюсти и просовывает ЭТО все глубже и глубже. Бьюсь изо всех сил, пытаюсь вырваться, но куда там — с каждой стороны меня держит баба в три раза больше меня. Не могу даже кричать — мой рот, мое горло забиты ЭТИМ. Жалкий писк захлебывается в передавленных связках, его не слышит никто кроме меня и тяжело дышащей Третьей, поглядывающей то на свою руку у меня во рту, то на экран, который я сперва приняла за аппарат УЗИ.
Сейчас я задохнусь и умру, если только ОНО не разорвет меня изнутри еще раньше. Тянет блевать, но я и этого не могу — во мне не осталось ни одного миллиметра свободного пространства, никакой воздух и никакая жидкость не войдут и не выйдут из меня. Женщины шипят, чтобы я перестала дрыгаться, что мне сейчас разорвет весь рот, а если у них не получится — они достанут ЭТО, а потом вставят еще раз. Пытаюсь сдерживать конвульсии в ногах — безуспешно; всю шею — от подключичных впадин до затылка — сдавило огромной невидимой рукой, как будто тут есть еще кто-то четвертый, кто может за горло протащить меня по всему кабинету и вышвырнуть нахрен в окно.
Наконец, Третья извлекает ЭТО. Я совсем не дышу, застывшими плечами почти достаю до ушей. Простыню откидывают, я приподнимаюсь на локте, кое-как вытираю слюну. "Одевайся" — говорят они мне. В коридор: "Мамочка, забирайте свою истеричку! Заключение будет готово через полчаса".
Для процедурных медсестер эндоскопического кабинета Детской больницы №2 города Николаева эти несколько минут были частью одного из сотен рабочих дней, а я — одной из тысяч маленьких девочек с подозрением на язву или гастрит, может, чуть более беспокойной и хлопотной, чем другие.
Для меня эти мгновения продолжаются до сих пор.
Слишком большое упрощение — считать человеческое время линейным, однонаправленно и безостановочно текущим из прошлого в будущее, от молодого к старому, от потенциального к свершившемуся. Каждый человек — голографическая открытка в миллионы слоев, носящий в себе все сущности, которыми он бывал когда-то; все, чем он еще станет и что еще только должен пережить.
Где-то в подвалах моего сознания — или подсознания, это уже Фрейду и Юнгу видней — есть темный обшарпанный кабинет, где последние двадцать лет трясется, пытаясь отдышаться, шестилетняя девочка, которую три чужие тетки только что без объяснений и предисловий трахнули в рот эндоскопом, пока мама осталась в коридоре. Девочка болела часто и разнообразно, так что рядом есть и другие двери, за которыми приходилось несладко, но эта находится ближе всех к поверхности и открывается тоже чаще.
Медицинское насилие — тема крайне малоизученная даже в англоязычном пространстве, а на постсоветском и подавно. И это притом, что в наших реалиях оно в силу наследованной специфики практикуется чаще. Сам термин еще не закрепился в информационном поле, почти не встречается в научных публикациях и используется в основном лишь на уровне частных обсуждений. Определения при этом варьируются: от проведения ненужных операций до не предоставления помощи. Я понимаю под медицинским насилием ситуацию, в которой пациент любого возраста:
При этом у пациента возникает и обостряется ощущение беспомощности и утраты контроля, иногда неосознаваемое; он получает психологический, а порой и физический ущерб.
Отсутствие четкой и доступной терминологии приводит к тому, что, не имея слова, пережившие медицинское насилие не осознают, ЧТО с ними произошло. Мы говорим о грубых медсестрах и неприветливых врачах; жалуемся на болезненные манипуляции и спешку; женщины делятся жуткими подробностями унижений во время родов — но все это воспринимается как некая частность, а не как системное явление, имеющее определенные причины, структуру и последствия.
В результате какая-либо совместная, общая борьба с ним становится невозможной — каждому приходится переживать свою травму в одиночестве, не понимая, почему так плохо и что с этим делать, порой даже не связывая последствия со случившимся. Нет и адекватной поддержки: как объяснить близким, что с тобой, если ты даже не можешь назвать то, что причинило тебе боль?
Медицинское насилие имеет ряд особенностей, выделяющих его среди других травмирующих ситуаций, таких как, например, психологическое насилие в семье, нападение на улице или стычка с незнакомцем где-нибудь в транспорте.
При этом пациент оказывается вовлеченным в структуру учреждения, где оказывают помощь — и происходит еще большее обезличивание: каждый должен, независимо от своих индивидуальных предпочтений и потребностей, подчиниться режиму и выполнять указания его носителей. Чувства и переживания — гнев, раздражение, страх, скука, тоска —не берутся в расчет, как несущественные.
Иначе это явление можно назвать объективацией. Она происходит и в других видах насилия, но здесь носит системный и легализованный характер: медицинские учебники описывают человека в той же манере, что пособия для инженеров — станки и двигатели. Вопросы медицинской деонтологии и этики, будучи заявленными в учебных планах, в реальности зачастую рассматриваются эпизодически и бессистемно, в меру понимания преподавателя. Откуда я знаю? Окончила медицинский.
В эпизодах медицинского насилия тяжелее всего приходится детям. Они и так лишены контроля над ситуацией и возможности себя защитить: им постоянно указывают, когда и что делать. В кабинете врача ребенок окончательно убеждается, что он вообще ничего не решает: взрослые получат любой доступ к его телу, когда сочтут нужным — читай, когда захотят. За взрослым пациентом на крайний случай предусмотрено право прервать действия медиков и уйти, за ребенком младше 14 лет — нет [по крайней мере, на момент подготовки материала: 13.11.18 МОЗ Украины вынесло на обсуждение законопроект о правах подростков 10-18 лет в сфере охраны здоровья].
Абстрактные аргументы о необходимости лечения — вне детского восприятия: нет никакого "потом" и точно не может быть "хуже", чем сейчас, когда больно и страшно, а родители, вместо того чтобы скорее увести отсюда, требуют послушания и "взять себя в руки", отказывая в праве на гнев и возмущения. Пропитываясь, помимо собственных запредельных переживаний, негативными эмоциями взрослых, получая от них не всегда логичные и правдивые пояснения, ребенок не может сориентироваться, чтобы адекватно прожить и отрефлексировать происходящее.
*Авторка благодарит за помощь в подготовке теоретической части и уточнении терминологии практикующую психотерапевтку Ольгу Хайдукову и детскую психологиню Наталью Пашко.
Что остается внутри человека, пережившего в детстве медицинское насилие? Что осталось внутри меня, теперь уже — взрослой женщины? Что я переживала за прошедший с того дня двадцать один с половиной год?
На первом плане было огромное количество стыда и гнева.
Страх, тревога, постоянная внутренняя готовность к внезапной экзекуции; чувство бракованности, недоверие и неприятие собственного тела как потенциального источника новых мучений. Чувство утраты контроля и отсутствия границ — где заканчивается внешний мир и начинаюсь я, если этот внешний мир может буквально ворваться в меня руками взрослых, и я еще должна буду благодарить?
Гнева — больше всего, и остается он дольше всего, заполняя собой все свободное пространство по мере того, как взросление приглушает остальные симптомы, а рациональность гасит стыд — "нет, это произошло не потому что ты была хуже других или делала что-то не так". Гневу же ничто не противопоставлено — наоборот, он приветствуется, потому что выглядит неплохим оборонительным средством. Ему передаешь управление, как сумасшедшему, но эффективному военачальнику.
Понять, что у этого гнева — постоянного, направленного во все стороны одновременно; как будто беспричинного, как будто бессмысленного и якобы безадресного — на самом деле есть очень даже конкретные причины и адресаты, удается ой как не сразу: в моем случае — на седьмом с перерывами году психотерапии, у пятого по счету терапевта.
Почему так долго?
В том числе потому, что мы живем в культуре, отвергающей беспомощность, и при этом предпочитающей не говорить о насилии — часто не столько по злому умыслу, сколько по бедности словаря. Неизбежная однажды беспомощность становится как бы нелегальной, тогда как неназываемое насилие делается не только более легитимным — оно становится практически безграничным: что нельзя очертить, то невозможно пресечь.
В медицинском контексте, к тому же, существует двойной "запрет на беспомощность", телесное состояние становится оценочной категорией, физические нормы превращаются в социальные. Выздоровление, сила, продуктивность — хорошо, молодец-боец. Болезнь и "неспособность" ее побороть, неэффективность лечения — плохо, незачет: "другие же выздоравливают, а ты просто ленишься и не хочешь бороться". Добавьте сюда всевозможные теории психосоматики: "ты болеешь, потому что неправильно чувствуешь и живешь".
При таком раскладе страшно бывает даже помыслить о том, чтобы признать себя человеком, которому причинили вред, не сумевшим себя защитить. Может казаться, что если назвать случившееся и обозначить свое положение в ситуации — это навсегда закрепит состояние поражения и беспомощности, проложит маршрут к его будущим повторениям.
На самом же деле все работает по-другому. Мы ведь называем перелом переломом и назначаем лечение — зная, что иначе болеть будет дольше, а может и вовсе не срастись как следует.
С душевными травмами — так же. Не-говорение, замалчивание — осознанное или нет — продлевает травму во времени (как мы можем знать, что ЭТО действительно закончилось, если пытаемся убедить себя, что ничего не произошло?) и увеличивает вероятность повторения — не признав случившееся, мы не сможем отреагировать, когда снова окажемся в похожей ситуации. В момент, когда мы даем имена явлениям и событиям, мы отделяем их от бесконечной массы остального мира, одновременно разграничивая связанные с ними страдания от себя, своей личности. Это исцеляет.
Проговаривание и осознание эпизода медицинского насилия, особенно произошедшего в детстве, имеет свои сложности — впрочем, не исключительные лишь для этой его разновидности. Недоверие к себе и своим воспоминаниям — а точно ли все было именно так, не показалось ли мне? Неспособность оценить ситуацию объективно: для чего со мной это делали, может, по-другому было нельзя? Стыд за смешанные, "неправильные" чувства — должна же быть благодарность, меня вылечили, почему вместо этого я чувствую злость и гнев? Страх, что если разбирать ситуацию до конца, то в список мучителей могут добавиться родные, которые не вмешивались или помогали врачам совершать интервенцию.
Я писала этот текст почти полгода, и все это время подобные сомнения и вопросы склеивали мои пальцы и клавиши, хотя для меня это не первый и даже не двадцать первый раз, когда я собираюсь поделиться острыми содержаниями с широкой аудиторией. Даже сейчас, дописывая последние абзацы, я чувствую онемение под ложечкой, желание замереть и не дышать — так проявляется отпечатавшийся годы назад телесный страх, когда используешь слова, чтобы извлечь его из себя.
Но если травма уже есть, и она достаточно сильна, чтобы влиять на отношения с собой и окружающими, то само не пройдет, сколько ни пытайся смотреть в другую сторону. Поэтому нужно найти безопасное место — там, где можно закричать, лечь на пол или схватить себя зубами за руку. И безопасных людей, с которыми можно будет о ней говорить. Тот же психолог, друзья, с которыми уже есть опыт поддержки и слушания без сомнений и осуждения.
Возможно, сначала это будет вообще разговор с собой — письменные практики: дневник, фри-райтинг, неотправленное письмо себе, кому-то из близких или даже врачу; арт-терапия — рисование, лепка. Подойдет любой способ, который поможет определить историю и механизм травмы, вычленить ее участников и вызванные их действиями чувства и последствия. Опять же, в безопасном месте — там, где никто не помешает и не прервет; с заботой о себе, без оценок и принуждения.
Мне есть еще так много чего сказать тем, кто оказывался — сам(а) или с ребенком — в ситуациях, похожих на мою. Но всякий монолог надо когда-то остановить. Закончу еще одной изумительной автобиографической деталью: как я уже вскользь упомянула, после всего я сама умудрилась поступить в медицинский и спустя шесть лет вышла оттуда с дипломом и несколькими белыми халатами разных размеров и степени заношенности.
Я не работаю по этой специальности и уже порядком забыла пропедевтику и фарму. Но я могу подписаться и поставить печать — она до сих пор где-то есть — под тем, что не существует ни одной болезни, для которой объективация, грубость и насилие были бы частью терапевтической схемы. Если состояние пациента и вправду требует действий настолько срочных, что нет нескольких минут объяснить, что и зачем сейчас будут делать, спросить разрешения на манипуляцию и уговорить по-хорошему — скорее всего, больной уже без сознания, интубируем.
Так что медицинское насилие — не лучше и не более оправдано, чем другие его разновидности, и уж точно оно не является непременным атрибутом лечения. Это оплошность и слабость, а не эксклюзивное право людей, облеченных специфическими знаниями и ответственностью.
И если кажется, что больно, когда говорят "не больно, придумываешь"; что обидно и страшно, когда говорят "я ничего такого не делаю" — значит, не кажется.
Чувства в принципе не умеют казаться и быть ошибочными.